Василий Ярославич (князь серпуховской)
Васи́лий Яросла́вич (между 1416 и 1419, Великое княжество Литовское – 18.2.1483, Вологда), удельный князь серпуховской (конец 1432 – начало 1433 – 1456). Из московских Рюриковичей. Сын боровского князя Ярослава Владимировича (18.1.1389–16.8.1426) и его 2-й жены Марии Фёдоровны, урождённой Голтяевой-Кошкиной (ум. между 1456 и 1461). Внук Владимира Андреевича Храброго и Елены Ольгердовны. Брат Марии Ярославны. Дядя Ивана III Васильевича, Юрия Васильевича, Андрея Васильевича Большого Горяя, Бориса Васильевича, Андрея Васильевича Меньшого.
Родился во время отъезда своего отца в Великое княжество Литовское (ВКЛ). К концу 1420-х гг. остался единственным мужским представителем серпуховских князей. До начала 1430-х гг. регентом при князе являлась его бабушка, Елена Ольгердовна.
Правитель Серпуховского княжества (1432/1433–1456)
В конце 1432 – начале 1433 гг. стал самостоятельным правителем Серпуховского княжества. В состав владений серпуховского князя вошли треть Москвы «и в пошлинах», Серпухов, Боровск, Лужа, Хотунь, Радонеж, Перемышль (все «с волостьми»), треть волости Мушковы горы, Добрятинская треть. Слабость, молодость и неопытность молодого князя привели к тому, что он лишился прежних великокняжеских пожалований (Козельск, Углич, Городец, Алексин, волости Гоголь и Лисин), принадлежавших в разное время его деду. При этом ему предстояло выплатить 780 руб. долга, сделанного Еленой Ольгердовной в период регентства. Духовная грамота (завещание) последней, составленная в 1434 г., свидетельствует о том, что серпуховской князь не хотел отдавать этот долг. Фактически великий князь московский Василий II Васильевич и Елена Ольгердовна принудили его к этому с помощью хитроумной комбинации: княгиня фиктивно пожаловала великому князю свой Лужский удел, а тот на условиях выплаты долга со своей стороны отдал его Василию Ярославичу. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что отношения бабушки и внука были сложными.
С момента вступления в управление Серпуховским княжеством оказался вовлечён в систему междукняжеских союзов, которая в условиях Московской усобицы 1425–1453 гг. формировалась, по всей видимости, великой княгиней московской Софьей Витовтовной и её сторонниками. В конце 1432 – начале 1433 гг. Василий Ярославич впервые стал субъектом междукняжеских соглашений, приняв участие в заключении договора Василия II (при участии можайского князя Ивана Андреевича и верейско-белозерского князя Михаила Андреевича) с великим князем рязанским Иваном Фёдоровичем, оформившего союз Московского великого княжества и Рязанского княжества. Примерно в это же время [по всей видимости, в конце января – начале февраля 1433, накануне свадьбы Василия II и Марии Борисовны (Мазуров. 2008. С. 152)] заключил договор с Василием II (при участии угличского князя Константина Дмитриевича, Ивана и Михаила Андреевичей). Согласно этому договору [Духовные и договорные грамоты (ДДГ). 1950. № 27. С. 69], Василий II провозглашался по отношению к серпуховскому князю «братом старейшим и отцом», а Василий Ярославич имел весьма невысокий статус «брата молодшего и сына», будучи по возрасту примерно ровесником с ним. По отношению к Константину Дмитриевичу серпуховской князь именовался «племянником», а к Ивану и Михаилу Андреевичам – «братом молодшим» (ДДГ. № 27. С. 69–70). Таким образом, Василий Ярославич занимал последнее место в иерархии среди перечисленных лиц. Наиболее принципиальным и политически значимым были положения об «одиначестве» (т. е. союзе) всех перечисленных князей. В отношении великого князя Василий Ярославич взял обязательство «держать» под ним «великое княжение честно и грозно», «добра ... хотеть везде во всем», «а кто будет ... тебе друг, и мене друг», «а кто ... недруг, то и мне недруг» (ДДГ. № 27. С. 70). Впервые в практике междукняжеских отношений на Руси в договоре был письменно закреплён отказ серпуховского князя от самостоятельных отношений с Ордой. В целом, это докончание закрепило за Василием Ярославичем права суверенного серпуховского князя. Все пункты этого соглашения серпуховской князь выполнял неукоснительно на протяжении двух последующих десятилетий, что характеризует его как чрезвычайно принципиального и верного долгу удельного правителя.
В 1433–1434 гг. стал единственным из князей-союзников Василия II, кто с оружием в руках выступил в его поддержку во время обострения Московской усобицы; в 1433 г. напал на владения (вероятно, звенигородские) князя Юрия Дмитриевича, а в 1434 г. совершил совместный поход с великим князем рязанским Иваном Фёдоровичем (Мазуров. 2008. С. 154–155). По всей видимости, участвовал в проигранном русскими войсками ордынцам Белёвском бою 1437 г., а также совершенно определённо в аналогично завершившемся Суздальском сражении 1445 г. (по некоторым сведениям, был ранен, но сумел избежать плена).
После ослепления в феврале 1446 г. Василия II «отъехал» с семьёй в ВКЛ, где получил от великого князя литовского Казимира Ягеллончика богатые пожалования, включавшие Брянск, Гомель, Стародуб, Мстиславль «и иные многые места» [Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 25. С. 266]. Возглавил силы сторонников восстановления Василия Тёмного на московском великокняжеском столе. Осенью того же года по призыву Василия Тёмного выступил на помощь к нему и соединился с ним в Твери. Возглавил поход на бежавшего в Углич великого князя московского Дмитрия Юрьевича Шемяку и штурмом взял город. Сыграл решающую роль в возвращении Василия II на великокняжеский престол. В январе 1447 г. по новому договору с великим князем московским получил за верную службу г. Дмитров «со всеми дмитровскими и московскими волостями» «в вотчину и в удел», а также временно (до примирения великого князя московского с Дмитрием Шемякой) волость Суходол с Красным селом (ДДГ. № 45. С. 130; волость Суходол была возвращена Дмитрию Шемяке летом 1447). Его статус был повышен до «брата молодшего» великого князя московского, однако ему пришлось признать «братьями старейшими» малолетних детей Василия II.
В конце весны – начале лета 1447 г. выступил посредником в переговорах с Дмитрием Шемякой и Иваном Андреевичем. 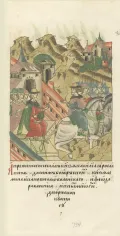 Василий II Васильевич отправляет Василия Ярославича в поход на Устюг против Дмитрия Юрьевича Шемяки. 1452. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 16 в. Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург. ОР РНБ. F.IV.225. Л. 734.
Иллюстрация из книги: Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 14. 1444–1459. М.: ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. С. 231.В середине 1447 г. участвовал в оформлении нового договора Василия II с великим князем рязанским Иваном Фёдоровичем (ДДГ. № 47. С. 142–145). В 1-й половине 1448 г. вновь стал посредником в переговорах Василия II с Иваном Андреевичем, завершившихся договором лета 1448 г., в котором серпуховской князь был определён как поручник «на обѣ стороны» (ДДГ. № 51. С. 150, 153, 155). Участвовал в совещании политической элиты Московского великого княжества конца 1448 г., по итогам которого Василий II инициировал поставление епископа Рязанского Ионы на митрополичью кафедру без санкции Константинопольского патриархата, что привело к установлению автокефалии Русской Церкви. Весной 1449 г. принял участие в походе великокняжеских войск против Дмитрия Шемяки к Костроме, а летом того же года возглавил поход на Галич. 31 августа 1449 г. участвовал в оформлении союзного договора Василия II с великим князем литовским и польским королём Казимиром IV. В январе 1450 г. участвовал в походе великого князя московского на Галич, закончившемся поражением Дмитрия Шемяки. В 1452 г. возглавлял поход на Устюг против Дмитрия Шемяки.
Василий II Васильевич отправляет Василия Ярославича в поход на Устюг против Дмитрия Юрьевича Шемяки. 1452. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 16 в. Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург. ОР РНБ. F.IV.225. Л. 734.
Иллюстрация из книги: Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 14. 1444–1459. М.: ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. С. 231.В середине 1447 г. участвовал в оформлении нового договора Василия II с великим князем рязанским Иваном Фёдоровичем (ДДГ. № 47. С. 142–145). В 1-й половине 1448 г. вновь стал посредником в переговорах Василия II с Иваном Андреевичем, завершившихся договором лета 1448 г., в котором серпуховской князь был определён как поручник «на обѣ стороны» (ДДГ. № 51. С. 150, 153, 155). Участвовал в совещании политической элиты Московского великого княжества конца 1448 г., по итогам которого Василий II инициировал поставление епископа Рязанского Ионы на митрополичью кафедру без санкции Константинопольского патриархата, что привело к установлению автокефалии Русской Церкви. Весной 1449 г. принял участие в походе великокняжеских войск против Дмитрия Шемяки к Костроме, а летом того же года возглавил поход на Галич. 31 августа 1449 г. участвовал в оформлении союзного договора Василия II с великим князем литовским и польским королём Казимиром IV. В январе 1450 г. участвовал в походе великого князя московского на Галич, закончившемся поражением Дмитрия Шемяки. В 1452 г. возглавлял поход на Устюг против Дмитрия Шемяки.
Участие в Московской усобице превратило Василия Ярославича в зрелого полководца и авторитетного политика. В Серпуховском княжестве князь продолжал монетную чеканку (начата его дедом); среди выявленных к 2022 г. порядка 1 тыс. монет княжества бо́льшую часть занимают деньги и полуденьги Василия Ярославича.
С окончанием Московской усобицы со смертью Дмитрия Шемяки (1453) отношения серпуховского князя с Василием II стали усложняться. Во 2-й половине 1453 – начале 1454 гг. по новому договору с великим князем московским лишился Дмитрова «с волостьми», получив взамен лишь волость Суходол с Красным селом, что стало явно неадекватной заменой (Мазуров. 2008. С. 164–165). Летом 1454 г. участвовал в походе Василия II против татар в Коломну, а затем на Можайск с целью ликвидации и конфискации в великокняжескую казну удела можайского князя Ивана Андреевича, бежавшего в ВКЛ. Осенью 1454 г. по новому договору с Василием II получил Бежецкий Верх (совместное владение великого князя московского и Новгородской республики) и Звенигород (оба – «с волостьми») (Мазуров. 2008. С. 166). В начале 1456 г. участвовал в походе Василия II на Новгород, завершившемся подписанием Яжелбицкого договора 1456 г. Вёл начальный раунд переговоров с архиепископом Новгородским Евфимием II и получил как «жалование» часть денежных выплат от новгородцев.
Непросто складывались отношения Василия Ярославича с некоторыми монашескими корпорациями его удела. Так, он «не почиташа игумена и старцов» Троице-Сергиева монастыря, в связи с чем Василий II «взял монастырь во свое государство», а серпуховскому князю «не повеле обладати Сергиевым монастырем» (Послания Иосифа Волоцкого. 1959. С. 201). Конфликт произошёл у князя и с Пафнутием Боровским, который в 1444 г. ушёл из боровского Высокого в честь Покрова Пресвятой Богородицы мужского монастыря и основал в волости Суходол, принадлежавшей тогда Дмитрию Шемяке, боровский Пафнутиев в честь Рождества Пресвятой Богородицы мужской монастырь. Согласно Житию преподобного Пафнутия Боровского, Василий Ярославич неоднократно направлял своих слуг, чтобы поджечь обитель, но всякий раз их удерживал вид мирно трудившейся братии во главе с игуменом (Кадлубовский. 1899. С. 123). Однако после Суздальского сражения 1445 г., спасение в котором, согласно Житию, Василий Ярославич приписал молитвам Пафнутия (Кадлубовский. 1899. С. 123), князь примирился с Пафнутием, просил прощения у игумена и братии обители и стал оказывать ей особое покровительство.
Арест и жизнь в заключении
По приказу Василия II 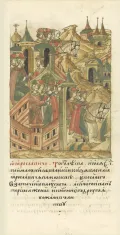 Арест князя Василия Ярославича. 1456. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 16 в. Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург. ОР РНБ. F.IV.225. Л. 873.
Иллюстрация из книги: Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 14. 1444–1459. М.: ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. С. 509.в июле 1456 г. Василий Ярославич был арестован в Москве. Причины этого события источники не раскрывают, а дата разнится: в Софийской первой летописи по списку И. Н. Царского, Софийской второй летописи, Сокращённых летописных сводах 1493 и 1495 гг. – 3 июля (ПСРЛ. Т. 39. С. 147; Т. 6, вып. 2. Стб. 129; Т. 27. С. 274, 349), в Московском летописном своде конца 15 в. и Никаноровской летописи – 10 июля (ПСРЛ. Т. 25. С. 275; Т. 27. С. 120), в Вологодско-Пермской летописи – 12 или 10 июля (в разных списках: ПСРЛ. Т. 26. С. 217), в Новгородской четвёртой летописи и Новгородской летописи по списку П. П. Дубровского день и месяц ареста князя отсутствуют (ПСРЛ. Т. 4, ч. 1. С. 464; Т. 43. С. 183). Серпуховской князь был отправлен в Углич, где он содержался под арестом на «дворе в тыне». В начале 1462 г. серпуховские дети боярские, установившие контакты с находившимися в ВКЛ представителями московских Рюриковичей, попытались освободить своего князя, однако заговор был раскрыт, основных участников подвергли смертной казни. После этого Василий Ярославич был переведён с возложением «желез» (т. е. его руки и ноги были закованы в цепи) в тюрьму в Вологду, где пробыл до кончины.
Арест князя Василия Ярославича. 1456. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 16 в. Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург. ОР РНБ. F.IV.225. Л. 873.
Иллюстрация из книги: Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история. Книга 14. 1444–1459. М.: ООО «Фирма АКТЕОН», 2014. С. 509.в июле 1456 г. Василий Ярославич был арестован в Москве. Причины этого события источники не раскрывают, а дата разнится: в Софийской первой летописи по списку И. Н. Царского, Софийской второй летописи, Сокращённых летописных сводах 1493 и 1495 гг. – 3 июля (ПСРЛ. Т. 39. С. 147; Т. 6, вып. 2. Стб. 129; Т. 27. С. 274, 349), в Московском летописном своде конца 15 в. и Никаноровской летописи – 10 июля (ПСРЛ. Т. 25. С. 275; Т. 27. С. 120), в Вологодско-Пермской летописи – 12 или 10 июля (в разных списках: ПСРЛ. Т. 26. С. 217), в Новгородской четвёртой летописи и Новгородской летописи по списку П. П. Дубровского день и месяц ареста князя отсутствуют (ПСРЛ. Т. 4, ч. 1. С. 464; Т. 43. С. 183). Серпуховской князь был отправлен в Углич, где он содержался под арестом на «дворе в тыне». В начале 1462 г. серпуховские дети боярские, установившие контакты с находившимися в ВКЛ представителями московских Рюриковичей, попытались освободить своего князя, однако заговор был раскрыт, основных участников подвергли смертной казни. После этого Василий Ярославич был переведён с возложением «желез» (т. е. его руки и ноги были закованы в цепи) в тюрьму в Вологду, где пробыл до кончины.
Был трижды женат, происхождение всех супруг неизвестно. Его первой супругой была Василиса (ум. между 1447 и 1453); второй – Мария (ум. после 1456), бежавшая в 1456 г. от преследований в ВКЛ; третьей – неизвестная по имени (ум., вероятно, после 1462).
Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Для захоронения князя было выбрано очень почётное место (солея у южной стены), оно в противовес традиции располагалось у самого алтаря, а не рядом с отцом и дедом, и было парным погребению Василия II (солея у северной стены). Тем самым племянник и сестра Василия Ярославича – великий князь московский Иван III Васильевич и его мать, великая княгиня-инока Марфа принесли ему посмертные извинения и воздали максимально возможные почести.
Потомки Василия Ярославича
От 1-го брака Василий Ярославич имел сына Ивана Васильевича Большого (ум. не ранее 25.4.1507), который в 1456 г. бежал от преследований в ВКЛ, где позднее владел Давид-Городком, Клецком и Рогачёвом. От 3-го брака имел троих сыновей: Ивана Васильевича Меньшого (ум. 21 марта, год смерти неизвестен), Андрея Ивановича (ум. 31 октября, год смерти неизвестен) и Василия Ивановича (годы рождения и смерти неизвестны), которые умерли в заточении (вероятно, в Костроме, куда их перевели, по всей видимости, в 1462) и были похоронены в Костромском в честь Богоявления Господня мужском монастыре.
